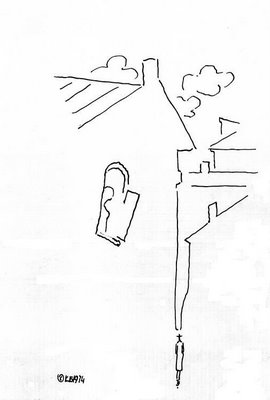 О
Ощутимо чужое тепло на руке. Подняв голову, он увидел тонкие пальцы. Заметил он чашечку кофе на блюдце, сахар. Пуговицы пальто: взгляд взбирался вверх и уцепился за воротник. Здесь начинались шея и подбородок. Неудивительны щеки. Взор его впился в глаза посетительницы.
Спустя время он понял, что названо имя: Петр. Прибегнув к логике, он соединил имя с человеком мужского пола. Он сопоставил причины и пришел к выводу, что Петр сидит рядом на стуле, более того, он и есть «Петр».
– Петр, – произнес он. – Правильно.
Но мгновенье назад он думал иначе. Разве страдание не укрепляло ее, думал он, разве не ослаблена она теперь избытком страдания, – думал одинокий прохожий, разумея душу, идя вечером в городской толпе. Он не замечал быстрого бега вокруг и алчности очередей.
Он вошел в кафе и преобразился: одинокий посетитель сел за столик, бывший прохожий. От влажных пальто других поднимался пар. Он курил: тайно, как разведчик, пряча сигарету под столиком, – в дешевом кафе не курят, потому что не продают вина. Впрочем, пар от влажной одежды, запотевшие окна, невнятный говор, неоновый свет уличных фонарей. На улице телу холодно, зябко; в помещении телу тепло, оно сидит на стуле покойно и становится незаметным. Руке легко держать чашечку с кофе…
О, ядовитый нектар. О, винодел, любующийся запасами для бесконечной зимы. самое сладкое: утраченная любовь. Иные сравнятся: смерть, разлучившая с другом навсегда, тюрьма, разлучившая навсегда с другом. Вот вино, не названное судьбой: лицо в освещенном окне третьего (о, не четвертого, нет!) третьего этажа, печальное, словно лицо уплывающего на корабле, ладони, прижатые к вискам, и казенный халатик без пуговиц. И не назван судьбой слабый взмах руки на прощанье, – прими, душа, жгучий и драгоценный плод, но будь осторожна: он прорастет багровым цветком безумия.
Посетитель с намерением сунул руку в карман пальто и вынул круглое, завернутое в газету. Он наполнил стакан. Запотевшие окна, одиночество и вино.
– Не смочь полюбить, – проговорил посетитель. – Наказание, которое не указывает на проступок. Был ли он, следует вспомнить.
Стук ложек отвлек посетителя. Рядом поспешно ели. Желая рассмотреть лица, он увидел цвет осиного гнезда, то есть серый цвет. Очевидная выпуклость носа успокоила его.
Окно запотело. На улице идет дождь, иначе тротуар не блестел бы отраженным светом. Упал, поскользнувшись, прохожий и лежит. – Умер ли он, поскользнувшись? – начал посетитель, но был за столиком одинок.
Он отвернулся от окна и, отвернувшись, посмотрел вглубь кафе, на посетителей, желавших поужинать чем Бог пошлет. Белизна икр женщины, требовавшей еды, изумила его: подобный цвет возможен в марте, никогда в декабре. Впрочем, если она не могла выйти летом из помещения, то подобная белизна неудивительна. Есть помещения, тысячи помещений – вздор, миллионы – откуда нельзя выйти.
Лица он не видел в освещенном окне, и это правда. Но прядь, свисающая на лоб, но очерк плеч, и взмах рукою, и движение головой, чтобы скрыть плач, и понимание: некая сила сильнее любви. Но он увидел себя на краю, он собирался вытащить на нитке кого-то из пропасти. О, не торопясь, о, осторожно, о!
Взмах руки рассек его сердце, подумал он. Спохватившись, вспомнил, что он – это он. Будучи им, сунул руку с намерением в карман пальто, кстати, довольно чистенького.
Нет лазейки в волне. Страданье разборчиво, добыча его – мягкое, теплое, сон. Во сне придет лицо в освещенном окне, и перед смертью – чтобы помочь ей – вспомнит ладони, прижатые к вискам.
Любя (неужели?), он осторожно подтягивал на нитке – упавшего. Он беспокоился, что нитка вдруг оборвется, заметил, что стоит на краю, и заглянул вниз.
И увидел лицо в освещенном окне.
Ему хотелось приблизиться, провести рукою по волосам, обнять узкие плечи. Говорить: полно, милая, что ты! Ты забудешь, что было, черные перья не будут падать, как снег.
– Зонтик моей любви, – сказал посетитель.
Черные перья, падавшие, словно снег, оставили от него проволочный остов. Немочь любви есть наказание оставшемуся жить. Но третий стакан вина, и пар от влажной одежды, и напряженный стук ложек, – наслаждение наблюдателя, сидящего за столиком.
Можно ли видеть бегущего по улице, чтобы не забилось сердце, подумал он. Ибо великое есть в побеге, когда нельзя сойтись в схватке. Бегущий – достойный противник.
И это погибло, но названо: он побежден. Как сладко надеяться, а еще слаще признаться, разбит, свиньи вытоптали растения. Побежденный тайком нальет вина, смело выпьет его, чтобы отчаяние стало беззубым. Сделав круг с веревкой на шее, вернуться и на аллее выбрать место, где стать. И медленно поднимать глаза к освещенным окнам, и почти вскрикнуть: прядь волос, упавшая на лоб, тонкие руки. Казенный халатик, собравший всю нелюбовь на земле, всю бедность. Возможно приблизиться, обнять, истребить нелюбовь, – при условии не возвращаться, не прятаться в тень, не шептать, прижавшись к стволу липы (может статься, и вяза), – бедная, бедная, бедная. Прыжок и – что ты, милая. Что ты…
Нитка обрезана.
Сидящий в кафе зажимает уши ладонями, но в памяти вспыхивает окно, и он видит лицо: трезвеет. Он ловит губами край стакана, пляшущий в воздухе, вино льется на столик, но часть достается ему: хмель возвращается.
Он не осмелился жертвовать, не жертвуя, вырастил розу страдания, собрал ядовитый мед в сердце. Болезнь пожертвует им, не он, он спасается бегством.
На мгновенье поверив, он увидел: черные мохнатые тучи висели над проспектом, в домах не было света. Черные перья падали, словно снег, из тучи.
– Что ты, милая, я обниму тебя и укрою, – сказал он.
Почему, спросил он (радуясь тому, что ответа не будет), не пришлось поверить в иное. Почему свиньи напали на мой уголок в пустыне. Сжег оставшееся сухой черный огонь. Оттого ли, что пустыня растет и знает путь к своему совершенству.
– Отчего выпало довольно много боли? Отчего все укрыто ею, как снегом? И отчего полюбил эту боль, разлюбив все остальное?
Посетитель наслаждался риторикой.
Вечер, окруженный бескрайней пустыней. Края ее поднимались, будто края чаши, росли. На дней чаши был он, и все собирался взглянуть ночью на звезды: может быть, края скоро сомкнутся. И если небо исчезло, он сохраняет плацдарм: запотевшие окна, улица и вино.
Скользкая поверхность столика блестела. Стакан стоял на самом краю. Лампы на потолке закрыты жестяными цилиндрами, свет неярок. Почти скрытый тенью колонны, державшей свод, сидел одинокий посетитель, развалившись на стуле, в пальто.
– Смерть – лебединая песнь любви! – воскликнул он развязно.
Он уклонился, это был храбрый поступок. Судьба назначила поддерживать и пасть, наконец. Он был выбран, захотев выбрать что-нибудь сам, уклонился и очнулся в пустыне. Он побежал в память и увидел силуэт погибающего человека. Только он мог замедлить смыкание тверди, мог ли. Мог – умерев. На мертвых надеется мудрый, он. Плачущий в освещенном окне ждал помощи от живого, и принял бегство за нелюбовь. Нелюбовь же больнее смерти. и правда: любовь не бежит, но человеку не противна мысль о спасении. Куда он бежал, в кафе, за столик. В каменном яйце мест для побега немного. И на каменном небосклоне всходит, как солнце, освещенное ярко окно с силуэтом гибнущего. Правильный выход, достойный одинокого пешехода, а теперь посетителя – смерть.
Он ощутил чужое тепло, проникшее в руку. Он увидел тонкие пальцы. Заметил чашечку с кофе на блюдце и даже пуговицы пальто.
Он долго смотрел в глаза посетительницы. Спустя время, он понял, что названо имя: Петр. Он сопоставил причины и заключил, что Петр сидит рядом на стуле. Вернее, он-то и есть «Петр». Скучный итог мышления разочаровал его.
– Петр, – произнес он. – Правильно.
Разговор не клеился.
– А вы кто? – вдруг спросил он. Очевидно, посетительница хотела напомнить о знакомстве. Смотрела она бескорыстно, хотя рука ее по-прежнему покоилась на руке Петра.
– Твой кофе остыл, – ответила она.
– Какой кофе? – встревожился посетитель. Он пошарил в кармане взволнованно. Бутылка почти не пустая.
– Хотите вина? – сказал он, не дожидаясь ответа. Не расслышав, хочет ли, спрятал бутылку.
Его уже тяготила беседа. Можно встать и уйти. Она не решится преследовать. В противном случае все разъяснится: ослиные уши не спрячешь. Но женское имя всплывало из тайной памяти.
– До свидания, Екатерина, – сказал посетитель. Он торопливо застегивал пуговицы пальто, стараясь их застегнуть.
Должно быть, идя по улице, он хотел не упасть, поскользнувшись, или упасть на сухой на сухой участок асфальта. Если ж декабрь на дворе, дождливый по веским причинам, то желание пешехода нелепо.
– Сверчок знает шесток, – сказал он. Они ехали в какой-то машине.
– Налево! – приказал Петр. Женщина, сидевшая рядом, не осмелилась возразить, хотя ехать следовало направо. Они мчались мимо памятников безумью: колонны на шестом этаже зданий, на крыше – вазы с небывалыми фруктами будущего, видимые со всех концов города.
– Направо, – сказала женщина.
– Прямо, – потребовал пассажир, наклоняясь вперед. Он скрипнул зубами.
– Налево, – распорядился он. Шофер и женщина переглянулись. Но пассажир входил неторопливо в ворота, не поднимая головы, шел по аллее. Помешать ему не умели. Он встал с деревом рядом, чтобы ухватиться за ствол липы. Рывком вскинул голову, вскрикнул: лицо в освещенном окне третьего этажа, прядь волос, ниспадающая на лоб, и ладони.
Он почувствовал руку, желавшую увести.
– Не смотри на меня, – услышал он. Рука в освещенном окне поднялась в прощальном жесте.
Говорят, он долго бежал по какой-то улице, бежал с шапкой в руках и надеялся, что задыхается от быстрого бега. Поскользнувшись, он выбросил руки вперед – и не упал, удержавшись за твердое. Люди посмотрели на него со страхом. Испуганный, он отступил в темноту от стеклянной витрины. Ломая стройные линии очередей, покупатели сгрудились у окна и желали разглядеть его лучше. Мимо пробежала Екатерина, за нею бежал шофер с небольшим саквояжем.
Обойдя дом, он быстро вошел в кафе. Недопитый стакан на гладкой крышке стола, какие-то спички, – натюрморт казался знакомым.
На стуле никто не сидел. Это легко поправить: он подойдет, усядется непринужденно, словно не уходил, а если вышел, то на минутку.
Немедленно подойти к цели не удалось, но лишь с третьей попытки. Порадовавшись удаче, он быстро выпил вино и с отвращением плюнул: в стакане был кофе. Поспешно наполнив стакан, он выпил жадно и торопливо, будто опаздывал на самолет.
– Петр, – прошептал женский голос.
Он оглянулся. Ярко освещенное окно приближалось. Полуприкрыв глаза рукою, он пытался определить цвет глаз человека, прижимавшего ладони к вискам. Взмах руки означал: уходи. Резко поднявшись, он сделал шаг и поскользнулся.
XII73
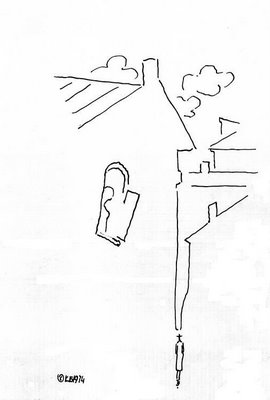 Ощутимо чужое тепло на руке. Подняв голову, он увидел тонкие пальцы. Заметил он чашечку кофе на блюдце, сахар. Пуговицы пальто: взгляд взбирался вверх и уцепился за воротник. Здесь начинались шея и подбородок. Неудивительны щеки. Взор его впился в глаза посетительницы.
Ощутимо чужое тепло на руке. Подняв голову, он увидел тонкие пальцы. Заметил он чашечку кофе на блюдце, сахар. Пуговицы пальто: взгляд взбирался вверх и уцепился за воротник. Здесь начинались шея и подбородок. Неудивительны щеки. Взор его впился в глаза посетительницы. Неужели, и кто – предал братство измученных. И возмездие неизбежно: не будет бескорыстной любви к тебе.
Неужели, и кто – предал братство измученных. И возмездие неизбежно: не будет бескорыстной любви к тебе.





